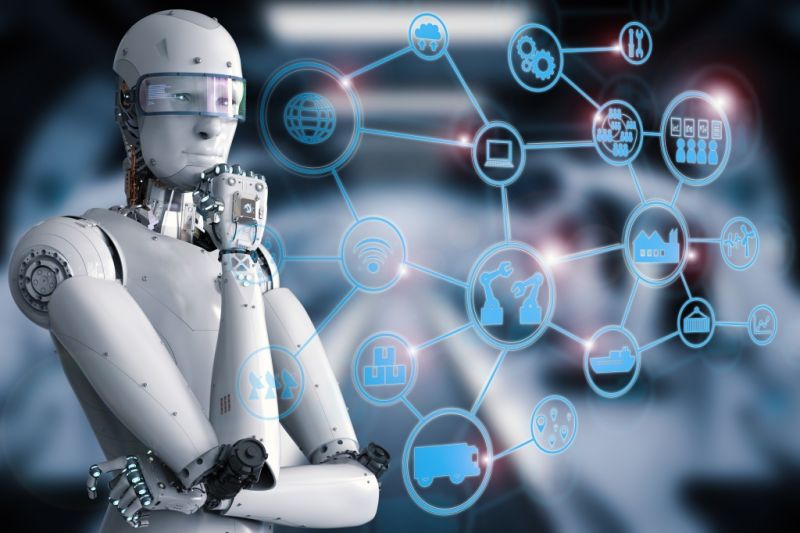–°–ª–∞–≤–∞ –∏ –≤–µ—á–Ω–∞—è –ø–∞–º—è—Ç—å –≥–µ—Ä–æ—è–º!

–ö 80-–ª–µ—Ç–∏—é –ü–æ–±–µ–¥—ã –≤ –í–µ–ª–∏–∫–æ–π –û—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –≤–æ–π–Ω–µ 1941-1945 –≥–æ–¥–æ–≤
–û—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–∞—è, –≤–æ—Å—å–º–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∞—è –≥–æ–¥–æ–≤—â–∏–Ω–∞ –ü–æ–±–µ–¥—ã –≤ –í–µ–ª–∏–∫–æ–π –û—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –≤–æ–π–Ω–µ –Ω–∞—Ä—è–¥—É —Å —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–æ–º –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å–ª–∞ –∏ –≥–æ—Ä–µ—á—å –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–π –æ —Ä–æ–¥–Ω—ã—Ö –∏ –±–ª–∏–∑–∫–∏—Ö –ª—é–¥—è—Ö, –ø—Ä–æ—à–µ–¥—à–∏—Ö –≤—Å–µ –∫—Ä—É–≥–∏ –∞–¥–∞ –∏ —É—à–µ–¥—à–∏—Ö –≤ –º–∏—Ä –∏–Ω–æ–π —Å —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–º –≤—ã–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –¥–æ–ª–≥–∞. –û —Ç–µ—Ö —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω—ã—Ö –≥–æ–¥–∞—Ö –¥–µ–ª–∏–ª–∏—Å—å –≤ —Å–≤–æ–∏—Ö –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è—Ö —É—á–∞—Å—Ç–Ω–∏–∫–∏ –≤–æ–π–Ω—ã - –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–∏, –ø–æ—ç—Ç—ã, –ø—É–±–ª–∏—Ü–∏—Å—Ç—ã. –ù–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–æ –º–Ω–æ–≥–æ —Ä–æ–º–∞–Ω–æ–≤, –æ—á–µ—Ä–∫–æ–≤, –º—É–∑—ã–∫–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–π. –ö–∞–∂–¥—ã–π –¥–µ–Ω—å —É—Ö–æ–¥—è—Ç –æ—Ç –Ω–∞—Å –≤–µ—Ç–µ—Ä–∞–Ω—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å–≤–æ–∏–º –ø–æ–¥–≤–∏–≥–æ–º –Ω–∞ –≤–æ–π–Ω–µ –∏ –≤ —Ç—ã–ª—É –ø–æ—Ä–∞–∂–∞–ª–∏ —Å—Ç–æ–π–∫–æ—Å—Ç—å—é, –ø–∞—Ç—Ä–∏–æ—Ç–∏–∑–º–æ–º, –≥–µ—Ä–æ–∏–∑–º–æ–º –∏ –ª—é–±–æ–≤—å—é –∫ –Ý–æ–¥–∏–Ω–µ. –ö —Å–æ–∂–∞–ª–µ–Ω–∏—é, —É—Ö–æ–¥—è—Ç –æ—Ç –Ω–∞—Å –∏ –¥–µ—Ç–∏ –≤–æ–π–Ω—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ —É–≤–∏–¥–µ–ª–∏ —Å–≤–æ–∏—Ö –±—Ä–∞—Ç—å–µ–≤, –æ—Ç—Ü–æ–≤, –æ—Å—Ç–∞–≤—à–∏—Ö—Å—è –ª–µ–∂–∞—Ç—å –≤ —á—É–∂–æ–π –∑–µ–º–ª–µ, —á—É–∂–æ–π —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ, –≤ –±–µ–∑—ã–º—è–Ω–Ω—ã—Ö –º–æ–≥–∏–ª–∞—Ö. –°–µ–≥–æ–¥–Ω—è –Ω–∞–º, —Ä–æ–¥–∏–≤—à–∏–º—Å—è –≤ –≥—Ä–æ–∑–Ω—ã—Ö —Å–æ—Ä–æ–∫–æ–≤—ã—Ö –≥–æ–¥–∞—Ö, –¥–∞–ª–µ–∫–æ –∑–∞ 80, –Ω–æ –ø–∞–º—è—Ç—å —Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç –≤—Å–µ —ç—Ç–∏ —ç—Ç–∞–ø—ã —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –Ω–µ–ª–µ–≥–∫–æ–≥–æ –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∏ –ø–æ—Å–ª–µ–≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏.
–°–µ–º—å—è –Ω–∞—à–∞ - –≤ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–µ –æ—Ç—Ü–∞, –º–∞—Ç–µ—Ä–∏, —Å–µ—Å—Ç—Ä—ã –∏ –±—Ä–∞—Ç–∞ - –ø–µ—Ä–µ—Å–µ–ª–∏–ª–∏—Å—å –≤ –ë–∞–∫—É –≤ —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç—ã–µ –≥–æ–¥—ã –∏–∑ –°—Ç–∞–ª–∏–Ω–≥—Ä–∞–¥—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏ —Å–µ–ª–∞ –ë–æ–ª—å—à–∞—è –ö–Ω—è–∑–µ–≤–∫–∞, –≥–æ–Ω–∏–º—ã–µ –≥–æ–ª–æ–¥–æ–º, –Ω–µ—É—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å—é –±—ã—Ç–∞, –≤ –ø–æ–∏—Å–∫–∞—Ö –ª–µ–≥–∫–æ–π –¥–æ–ª–∏ –≤ —Å–≤–æ–µ–π –∂–∏–∑–Ω–∏.
–û—Ç–µ—Ü - –í–æ—Ä–æ–Ω–∏–Ω –ü–µ—Ç—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á (1912 –≥–æ–¥–∞ —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è) —É—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª—Å—è —à–æ—Ñ–µ—Ä–æ–º –Ω–∞ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–µ –∑–¥–∞–Ω–∏—è –î–æ–º–∞ –°–æ–≤–µ—Ç–æ–≤. –ú–∞—Ç—å - –í–æ—Ä–æ–Ω–∏–Ω–∞ –ï–≤–¥–æ–∫–∏—è –ï–≥–æ—Ä–æ–≤–Ω–∞ (1914 –≥–æ–¥–∞ —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è) –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç–∞ –Ω–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç—É —Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–∫–æ–π –≤ —à–∫–æ–ª–µ, –≥–¥–µ –∏ –ø—Ä–∏—é—Ç–∏–ª–∞—Å—å —Å–µ–º—å—è –Ω–∞—à–∞, –≤ —á—É–ª–∞–Ω—á–∏–∫–µ –ø–æ–¥ –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—Ü–µ–π. –î–ª—è –º–æ–∏—Ö –ø–æ–ª—É–≥—Ä–∞–º–æ—Ç–Ω—ã—Ö —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–π –∏ –∏—Ö –¥–µ—Ç–µ–π —ç—Ç–æ—Ç —É–≥–æ–ª–æ–∫ –±—ã–ª —É–≥–æ–ª–∫–æ–º —Å—á–∞—Å—Ç—å—è –∏ –±–ª–∞–≥–æ–ø–æ–ª—É—á–∏—è. –ù–æ —ç—Ç–æ –∫–∞–∂—É—â–µ–µ—Å—è –±–ª–∞–≥–æ–ø–æ–ª—É—á–∏–µ 22 –∏—é–Ω—è 1941 –≥–æ–¥–∞ –±—ã–ª–æ —Ä–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω–æ –æ–¥–Ω–∏–º —Å–ª–æ–≤–æ–º - "–≤–æ–π–Ω–∞".
Конечно же, большая часть моего рассказа — это воспоминания матери. Уже 23 июня сотни людей собирались у военкоматов для отправки на фронт. 24 июня мать проводила отца на пристань, где призывники на судне должны были через Иран прибыть на место для формирования воинской части. Прямо с пристани мать отправилась в больницу имени Азизбекова, где мне, Воронину Борису Петровичу, 25 июня 1941 года удалось появиться на свет. Я до сегодняшнего дня не перестаю удивляться: откуда у женщины, оставшейся с тремя детьми на руках (один из которых младенец), нашлось столько моральных и физических сил, чтобы оставаться несломленной и ответственной за судьбу малолетних детей.
–°–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—è –Ω–∞ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–µ –Ω–µ –≤—ã–∑—ã–≤–∞–ª–∞ –±–æ–ª—å—à–æ–≥–æ –æ–ø—Ç–∏–º–∏–∑–º–∞. –í —Ä–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫–µ —Ä–∞–∑–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–µ –≥–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–ª–∏, –ø–æ–¥ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ, –ø—Ä–µ–∂–¥–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –æ—Ç–≤–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –∑–¥–∞–Ω–∏—è —É—á–µ–±–Ω—ã—Ö –∑–∞–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–π - —à–∫–æ–ª, –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç–æ–≤. –ú–∞—Ç—å –≤—ã–Ω—É–∂–¥–µ–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –ø–æ–π—Ç–∏ –Ω–∞ –ø—Ä–∏–µ–º –≤ –ë–∞–∫—Å–æ–≤–µ—Ç, –æ—Ç–¥–µ–ª –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏—è —Å –ø—Ä–æ—Å—å–±–æ–π –æ –≤—ã–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–∏ –µ–π –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—ã –∫–∞–∫ –∂–µ–Ω–µ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–≤–∏–∫–∞ —Å –¥–µ—Ç—å–º–∏. –í–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏ —É–¥–µ–ª–∏–ª–∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–Ω–∏–∫–∏ –ë–∞–∫—Å–æ–≤–µ—Ç–∞ –≤—ã–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –∏—Å–∫—Ä–µ–Ω–Ω–µ–µ –≤–æ—Å—Ö–∏—â–µ–Ω–∏–µ –∏ –±–æ–ª—å—à—É—é –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å.
–í –¥–æ–º–µ –ø–æ —É–ª–∏—Ü–µ –©–æ—Ä—Å–∞, 105 (–Ω—ã–Ω–µ –ë–∞—à–∏—Ä –°–∞—Ñ–∞—Ä–æ–≥–ª—É) –º–∞—Ç–µ—Ä–∏ –ø—Ä–µ–¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –¥–≤–µ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—ã –∏–∑ —Ç—Ä–µ—Ö, —É–ø–ª–æ—Ç–Ω–∏–≤ —Å–µ–º—å—é –ü–∏–ª–µ—Ü–∫–∏—Ö - –±—Ä–∞—Ç–∞ –∏ —Å–µ—Å—Ç—Ä—É - –ê–Ω–∞—Ç–æ–ª–∏—è –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á–∞ –∏ –ú–∞—Ä–∏—é –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–Ω—É. –û–±–∞ –æ–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ –≤ –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç–µ. –û–Ω–∞ - –ø–µ–¥–∞–≥–æ–≥ –º—É–∑—ã–∫–∏. –û–Ω, –Ω–µ –æ—Ç–ª–∏—á–∞—è—Å—å –∫—Ä–µ–ø–∫–∏–º –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—å–µ–º, –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–æ–º –ø–æ –º–µ–ª–æ—á–∞–º. –í –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–æ –≤–µ–ª–∏ –∏—Ö –ø—Ä–∏—Å–ª—É–≥–∏ - –£—Å—Ç–∏–Ω—å—è –∏ –ö–∞—Ç—è.
–û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –Ω–∞—à–µ–≥–æ –¥–æ–º–∞ 1903 –≥–æ–¥–∞ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–π–∫–∏, –∑–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –∫–∞–∫ –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫ –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã, —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∞ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—è —Å –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω–æ–≥–æ —Ö–æ–¥–∞ –Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤–æ–º —ç—Ç–∞–∂–µ –ø–æ –¥–ª–∏–Ω–Ω—ã–º –∫–æ—Ä–∏–¥–æ—Ä–∞–º –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–æ–π—Ç–∏ —á–µ—Ä–µ–∑ –≤—Å–µ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—ã –¥–æ —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ–≥–æ —ç—Ç–∞–∂–∞ –≤–∫–ª—é—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∏ —á–µ—Ä–µ–∑ –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—á–Ω—É—é –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫—É –≤—ã–π—Ç–∏ –≤–æ –≤—Ç–æ—Ä—É—é –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—É —ç—Ç–æ–≥–æ –¥–æ–º–∞. –Ý—è–¥–æ–º —Å –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω—ã–º –≤—Ö–æ–¥–æ–º, –ø–æ —Ç–µ–º–Ω–æ–º—É –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥—É –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –≤ –æ–±—â–∏–π –¥–≤–æ—Ä, –æ—Å—Ç–µ–∫–ª–µ–Ω–Ω–æ–º—É –¥–æ —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ–≥–æ —ç—Ç–∞–∂–∞, —Å —Ç—Ä–µ—Ö —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω –∏ –æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –∫–∞–º–µ–Ω–Ω—ã–º –∑–∞–±–æ—Ä–æ–º –¥–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —ç—Ç–∞–∂–∞ —Å —á–µ—Ç–≤–µ—Ä—Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã. –í —ç—Ç–æ–º –¥–≤–æ—Ä–µ –±—ã–ª–æ 10 –ø–æ–º–µ—â–µ–Ω–∏–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –æ—á–µ–Ω—å –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –±—ã–ª–∏ –∑–∞—Å–µ–ª–µ–Ω—ã. –û–±—â–µ–µ –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –ª—é–¥–µ–π (–≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –¥–µ—Ç—å–º–∏) –±—ã–ª–æ –æ–∫–æ–ª–æ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏.
–í–∏–¥ –Ω–∞—à–µ–π –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—ã, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ –∂–µ, –ø–æ—Ç—Ä—è—Å –º–∞–º—É. –ë–æ–ª—å—à–∞—è, –æ–∫–æ–ª–æ 20 –º2, —Å–≤–µ—Ç–ª–∞—è, –≤—ã—Å–æ—Ç–æ–π –≤—ã—à–µ 3 –º —Å —á–∏—Å—Ç—ã–º–∏ –ø—Ä–æ–∑—Ä–∞—á–Ω—ã–º–∏ –æ–∫–Ω–∞–º–∏ –∏ —à–∏—Ä–æ–∫–∏–º –±–∞–ª–∫–æ–Ω–æ–º –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü–µ —Å –¥–≤–æ–π–Ω–æ–π —Å—Ç–µ–∫–ª—è–Ω–Ω–æ–π –¥–≤–µ—Ä—å—é. –í —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–µ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—ã –≤–µ–ª–∏–∫–æ–ª–µ–ø–Ω—ã–π —Ä–æ—è–ª—å —Å –∑–æ–ª–æ—Ç—ã–º–∏ –Ω–æ–∂–∫–∞–º–∏ –∏ –ø–µ–¥–∞–ª—å—é. –î—Ä—É–≥–∞—è –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–∞ —Ç–∞–∫–∞—è –∂–µ –≤—ã—Å–æ–∫–∞—è –∏ —Å–≤–µ—Ç–ª–∞—è - 12 –º2. –ú–∞—Ç—å, —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–Ω–∞—è –∏ –≤—ã—Ä–æ—Å—à–∞—è –≤ —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–π –º–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏, –∏ –Ω–µ –ø–æ–¥–æ–∑—Ä–µ–≤–∞–ª–∞, —á—Ç–æ –º–æ–∂–Ω–æ –∂–∏—Ç—å –≤ —Ç–∞–∫–æ–º –≤–µ–ª–∏–∫–æ–ª–µ–ø–∏–∏. –í—Å–µ —ç—Ç–æ –ø—É–≥–∞–ª–æ –µ–µ. –ë–æ–ª—å—à–∏–µ –æ–∫–Ω–∞, –±–æ–ª—å—à–∏–µ –¥–≤–µ—Ä–∏, –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–∞—è –º–æ–∑–∞–∏—á–Ω–∞—è –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—Ü–∞ –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω–æ–π, –≥–¥–µ –Ω–∞ —Å—Ç–µ–Ω–∞—Ö –∏ –ø–æ—Ç–æ–ª–∫–µ –º–∞—Å–ª–æ–º –±—ã–ª–∞ –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∞ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–∞ - —Å—Ç–µ–ø—å, –ª–µ—Å, –æ–ª–µ–Ω–∏, –≥—É–ª—è—é—â–∏–µ –≤ –ø–æ–ª–µ. –ß—É–≤—Å—Ç–≤–æ —Å—Ç—Ä–∞—Ö–∞ –Ω–µ –ø–æ–∫–∏–¥–∞–ª–æ –µ–µ, –ø—Ä–µ–∂–¥–µ –≤—Å–µ–≥–æ –∑–∞ –¥–µ—Ç–µ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –º–æ–≥–ª–∏ –≤—ã–π—Ç–∏ –Ω–∞ –±–∞–ª–∫–æ–Ω, –Ω–µ —Å–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç—å—Å—è —Å –¥–≤–µ—Ä—å–º–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –º–æ–≥—É—Ç –∑–∞—Ö–ª–æ–ø–Ω—É—Ç—å—Å—è. –≠—Ç–∞ –±–æ—è–∑–Ω—å, –ø—Ä–µ–∂–¥–µ –≤—Å–µ–≥–æ –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ —Ä—è–¥–æ–º –Ω–∏–∫–æ–≥–æ –∏–∑ –≤–∑—Ä–æ—Å–ª—ã—Ö –º–æ–∂–µ—Ç –Ω–µ –æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å—Å—è, —á—Ç–æ–±—ã –≤ —á–µ–º-—Ç–æ –ø–æ–º–æ—á—å –¥–µ—Ç—è–º. –≠—Ç–æ –±–µ—Å–ø–æ–∫–æ–π—Å—Ç–≤–æ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–æ –µ–µ –æ—Ç–∫–∞–∑–∞—Ç—å—Å—è –æ—Ç –≤—ã–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –µ–π –∫–æ–º–Ω–∞—Ç –∏ –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å —Å–º–µ–∂–Ω—É—é —Å –Ω–∏–º–∏ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É 17 –º2. –ö–æ–º–Ω–∞—Ç–∞ —ç—Ç–∞ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∞ —Å–æ–±–æ–π –≥–ª—É—Ö—É—é —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Ö—Å—Ç–µ–Ω–Ω—É—é –∫–æ—Ä–æ–±–∫—É, –≤ —Å—Ç–µ–Ω–µ –∫–∞–∂–¥–æ–π –±—ã–ª–∞ –¥–≤–µ—Ä—å, –≤—ã—Ö–æ–¥—è—â–∞—è –∏–ª–∏ –≤ –¥–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –æ–±—â–∏–π –∫–æ—Ä–∏–¥–æ—Ä, –∏–ª–∏ –≤ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—ã –∫ —Å–æ—Å–µ–¥—è–º. –ò–∑ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—ã –≤ –æ–±—â–∏–π –∫–æ—Ä–∏–¥–æ—Ä –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –æ–¥–Ω–æ –æ–∫–Ω–æ, —á–µ—Ä–µ–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –ø—Ä–æ–Ω–∏–∫–∞–ª –¥–Ω–µ–≤–Ω–æ–π —Å–≤–µ—Ç. –í—Å–µ–≥–æ –Ω–∞ —ç—Ç–∞–∂–µ –±—ã–ª–æ –≤–æ—Å–µ–º—å –∫–æ–º–Ω–∞—Ç. –î–µ–≤—è—Ç–∞—è –±—ã–ª–∞ –æ–±–æ—Ä—É–¥–æ–≤–∞–Ω–∞ –ø–æ–¥ –æ–±—â—É—é –∫—É—Ö–Ω—é, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–ª–∏ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ —Å–µ–º—å–∏. –û—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏ –≤ —Å–≤–æ–∏—Ö –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–∞—Ö.
–ö —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –º–Ω–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –∏ –¥–≤—É—Ö –ª–µ—Ç, —è –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –±–æ–π–∫–æ –ø–æ–ª–∑–∞–ª –ø–æ –∫–æ—Ä–∏–¥–æ—Ä—É, –∑–∞–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞—è –≤ –∫–∞–∂–¥—É—é –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—É—é –¥–≤–µ—Ä—å. –ê –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É –¥–≤–µ—Ä–µ–π –±—ã–ª–æ –º–Ω–æ–≥–æ, —Ç–æ —É –∫–∞–∫–æ–π-–Ω–∏–±—É–¥—å —è –º–æ–≥ –∏ –∑–∞—Å–Ω—É—Ç—å. –ú–∞—Ç—å –∫ —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —É–∂–µ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∞ –Ω—è–Ω–µ–π –≤ –¥–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö —è—Å–ª—è—Ö, —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ —Ä–∞–Ω–æ, –ø—Ä–µ–¥—É–ø—Ä–µ–¥–∏–≤ –≤—Å–µ—Ö, —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ —É—Ö–æ–¥–∏—Ç. –ê —ç—Ç–æ –∑–Ω–∞—á–∏–ª–æ, —á—Ç–æ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª–æ—Å—å –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–∏–µ —Å–æ—Å–µ–¥—è–º–∏ –æ—Å—Ç–∞–≤—à–∏—Ö—Å—è –¥–æ–º–∞ –¥–µ—Ç–µ–π.
–ï—â–µ —Ä–∞–Ω–µ–µ –≤ –•—É–¥–∞—Ç –ø–µ—Ä–µ–µ—Ö–∞–ª–∞ —Ä–æ–¥–Ω–∞—è —Å–µ—Å—Ç—Ä–∞ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏ —Å –º—É–∂–µ–º. –û–Ω–∏ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –æ–±–∑–∞–≤–µ–ª–∏—Å—å —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–æ–º. –ù–∞ —Å–≤–æ–µ–º —É—á–∞—Å—Ç–∫–µ –±—ã–ª–∏ —É –Ω–∏—Ö –∫–æ—Ä–æ–≤–∞, —Å–≤–∏–Ω—å—è, –∫—É—Ä—ã. –î–µ—Ç–µ–π —É –Ω–∏—Ö –Ω–µ –±—ã–ª–æ, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –±—ã–ª–æ —Ä–µ—à–µ–Ω–æ, —á—Ç–æ –Ω–∞ –ø–µ—Ä–∏–æ–¥ –≤–æ–π–Ω—ã —Å–µ—Å—Ç—Ä–∞ –≤–æ–∑—å–º–µ—Ç –∫–æ–≥–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –∏–∑ –¥–µ—Ç–µ–π, —á—Ç–æ–±—ã –∫–∞–∫-—Ç–æ –æ–±–ª–µ–≥—á–∏—Ç—å –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –º–æ–µ–π –º–∞—Ç–µ—Ä–∏. –í—ã–±–æ—Ä –ø–∞–ª –Ω–∞ —Å—Ç–∞—Ä—à—É—é –¥–æ—á—å –õ–∏–¥—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–∏–ª–æ—Å—å —à–µ—Å—Ç—å –ª–µ—Ç. –ù–∞–¥–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –õ–∏–¥–∞ –±—ã–ª–∞ –∑–¥–æ—Ä–æ–≤–æ–π, —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–æ–π, –Ω–æ –æ—á–µ–Ω—å –Ω–µ–ø–æ—Å–µ–¥–ª–∏–≤–æ–π –¥–µ–≤–æ—á–∫–æ–π. –ß–µ—Ä–µ–∑ —Ç—Ä–∏ –¥–Ω—è —Ç–µ—Ç–∫–∞ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∞ –õ–∏–¥—É —Å–æ —Å–ª–æ–≤–∞–º–∏: "–ö–∞–∫ —Ç—ã —Å –Ω–µ–π —Å–ø—Ä–∞–≤–ª—è–µ—à—å—Å—è?" –û–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, –õ–∏–¥–∞ –Ω–∞–∫–æ—Ä–º–∏–ª–∞ —Å–≤–∏–Ω—å—é –º—ã–ª–æ–º, –∏ —Ç–∞, —Å –≤–∏–∑–≥–æ–º –Ω–æ—Å–∏–ª–∞—Å—å –ø–æ –¥–≤–æ—Ä—É, –ø—É—Å–∫–∞—è –º—ã–ª—å–Ω—ã–µ –ø—É–∑—ã—Ä–∏ –∏ —Å—Ä—ã–≤–∞—è –ø–æ—Å—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ –±–µ–ª—å–µ —Å –≤–µ—Ä–µ–≤–∫–∏.
–¢–µ—Ç–∫–∞ –∑–∞–±—Ä–∞–ª–∞ —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–≥–æ –ø–ª–µ–º—è–Ω–Ω–∏–∫–∞ –ú–∏—Ö–∞–∏–ª–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–∏–ª–æ—Å—å —á–µ—Ç—ã—Ä–µ –≥–æ–¥–∞. –û–Ω –±—ã–ª —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω—ã–º, –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –º–∞–ª—å—á–∏–∫–æ–º. –ú–∏—à–∞ –ø—Ä–∏–∂–∏–ª—Å—è —É —Ç–µ—Ç–∫–∏, –ø–æ–∑–Ω–∞–ª –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—É, –ø–æ—à–µ–ª –≤ —à–∫–æ–ª—É –≤ –•—É–¥–∞—Ç–µ –∏ —É–∂–µ –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞—Ç—å—Å—è –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥, –¥–∞–∂–µ –∫–æ–≥–¥–∞ –æ—Ç–µ—Ü –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è —Å –≤–æ–π–Ω—ã.
–¢–µ–º –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–µ–º –∂–∏–∑–Ω—å –≤ –Ω–∞—à–µ–º –æ–±—â–µ–º –∫–æ—Ä–∏–¥–æ—Ä–µ —à–ª–∞ —Å–≤–æ–∏–º —á–µ—Ä–µ–¥–æ–º. –≠—Ç–æ —É–∂–µ –±—ã–ª–∏ –Ω–µ —Å–æ—Å–µ–¥–∏, –∞ –±–æ–ª—å—à–∞—è —Å–µ–º—å—è, –ø–æ–º–æ–≥–∞—é—â–∞—è –¥—Ä—É–≥ –¥—Ä—É–≥—É. –°–æ—Å–µ–¥–∫–∞ –°—É—Ä–∏—è —Ö–∞–ª–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∞ –≤ –∫–µ—Ä–æ—Å–∏–Ω–æ–≤–æ–π –ª–∞–≤–∫–µ –Ω–∞ —É–≥–ª—É —É–ª–∏—Ü—ã –©–æ—Ä—Å–∞ –∏ –ù–∏–∂–Ω–µ–π –ù–∞–≥–æ—Ä–Ω—ã–π, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –∫–µ—Ä–æ—Å–∏–Ω –≤ –Ω–∞—à–µ–π –ª–∞–º–ø–µ –∏ –∫–µ—Ä–æ—Å–∏–Ω–∫–∏ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –±—ã–ª, —á—Ç–æ –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–ª–æ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏ –≥—Ä–µ—Ç—å –≤–æ–¥—É –∏ –∫—É–ø–∞—Ç—å –Ω–∞—Å –ø—Ä—è–º–æ –≤ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–µ, –≤ –≤–∞–Ω–Ω–µ. –£ —Ç–µ—Ç–∏ –°—É—Ä–∏–∏ –±—ã–ª —Å—ã–Ω, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Ç–æ–∂–µ —É—à–µ–ª –Ω–∞ –≤–æ–π–Ω—É. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –≤—Å–µ–º –±—ã–ª–æ —Ç—è–∂–µ–ª–æ. –ü—Ä–æ–¥—É–∫—Ç—ã –≤—ã–¥–∞–≤–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ –∫–∞—Ä—Ç–æ—á–∫–∞–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ —Ç–µ—Ä—è–ª–∏—Å—å, —á–∞—Å—Ç–æ –∏—Ö –≤–æ—Ä–æ–≤–∞–ª–∏. –ò —Ç–æ–≥–¥–∞ —Å–æ—Å–µ–¥–∏ –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å —Ä—è–¥–æ–º.
–û–∫–æ–Ω—á–∞–Ω–∏–µ –≤–æ–π–Ω—ã –º—ã —É–∑–Ω–∞–ª–∏ –∏–∑ —Å—Ç–∞—Ä–µ–Ω—å–∫–æ–≥–æ —Ä–µ–ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç–æ—Ä–∞, –≤–∏—Å—è—â–µ–≥–æ –Ω–∞ —Å—Ç–µ–Ω–µ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—ã. –ú—ã, –¥–µ—Ç–∏, –Ω–µ –¥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª–∏ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω—ã –ª–∏–∫–æ–≤–∞–Ω–∏—è, —à—É–º–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è –≤—Å–µ—Ö –æ–±–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª–µ–π –¥–æ–º–∞. –° –≤–æ–π–Ω—ã —Å—Ç–∞–ª–∏ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞—Ç—å—Å—è –∫ –∫–æ–Ω—Ü—É 1945 –≥–æ–¥–∞. –Ø –ø–æ–º–Ω—é, –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ —É –Ω–∞—Å. –í –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–µ –±—ã–ª–∏ —è –∏ —Å–µ—Å—Ç—Ä–∞. –í–æ—à–µ–ª —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –≤ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç—Å–∫–æ–º –æ–±–º—É–Ω–¥–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–∏ —Å –≤–µ—â–º–µ—à–∫–æ–º –≤ —Ä—É–∫–∞—Ö. –°–µ—Å—Ç—Ä–∞ —Å –∫—Ä–∏–∫–æ–º "–ü–∞–ø–∞ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª!" –±—Ä–æ—Å–∏–ª–∞—Å—å –∫ –Ω–µ–º—É. –ò —Ö–æ—Ç—è —è –Ω–µ –º–æ–≥ –≤–∏–¥–µ—Ç—å, –∫–∞–∫ –æ—Ç–µ—Ü —É—Ö–æ–¥–∏–ª –Ω–∞ –≤–æ–π–Ω—É, —Ç–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, —Ç–æ–∂–µ —Å—Ç–∞–ª –∫—Ä–∏—á–∞—Ç—å "–ú–æ–π –ø–∞–ø–∞, –º–æ–π –ø–∞–ø–∞!". –°–µ—Å—Ç—Ä–∞, –∫–∞–∫ –≤—Å–µ–≥–¥–∞, —Å—Ç–∞–ª–∞ –¥—Ä–∞–∑–Ω–∏—Ç—å –º–µ–Ω—è: "–≠—Ç–æ –Ω–µ —Ç–≤–æ–π –ø–∞–ø–∞". –Ø, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —Ä–∞–∑—Ä–µ–≤–µ–ª—Å—è, –Ω–æ –æ—Ç–µ—Ü –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –º–µ–Ω—è —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏–ª. –ò —Å—Ç–∞–ª–∏ –∂–∏—Ç—å –≤—á–µ—Ç–≤–µ—Ä–æ–º –≤ –ø–æ–ª—É—Ç–µ–º–Ω–æ–π –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–µ, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –ø—Ä–æ—à–ª–∏ –º–æ–∏ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–æ –∏ —é–Ω–æ—Å—Ç—å.
–í —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –º–Ω–æ–≥–∏–µ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª–∏—Å—å —Å –≤–æ–π–Ω—ã –Ω–∞ –∫–æ—Å—Ç—ã–ª—è—Ö, —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã–µ, –±–µ–∑ —Ä—É–∫ –∏ –Ω–æ–≥. –í—Å–µ —É—à–µ–¥—à–∏–µ —Å –Ω–∞—à–µ–≥–æ –¥–≤–æ—Ä–∞ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å –∂–∏–≤—ã–º–∏, –Ω–æ —Å —Ç—è–∂–µ–ª—ã–º–∏ —Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏—è–º–∏, –æ —á–µ–º –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏ —à—Ä–∞–º—ã –Ω–∞ —Ç–µ–ª–µ. –û—Ç–µ—Ü –±—ã–ª –∫–æ–Ω—Ç—É–∂–µ–Ω, –æ–±–º–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω, –ø–µ—Ä–µ–Ω–µ—Å –æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏—é –Ω–∞ –∂–µ–ª—É–¥–∫–µ, –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª—Å—è –ø–æ–¥ –Ω–∞–±–ª—é–¥–µ–Ω–∏–µ–º –≤—Ä–∞—á–µ–π –¥–æ —Å–∞–º–æ–π —Å–º–µ—Ä—Ç–∏. –ù–∏–∫—Ç–æ –∏–∑ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–≤–∏–∫–æ–≤ –Ω–µ –ª—é–±–∏–ª —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –æ –≤–æ–π–Ω–µ. –í–∏–¥–∏–º–æ, –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è –¥–∞–≤–∞–ª–∏—Å—å –∏–º –æ—á–µ–Ω—å —Ç—è–∂–µ–ª–æ.
–ö–∞–∂–¥—ã–π, –≤ —Å–∏–ª—É —Å–≤–æ–µ–≥–æ –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—å—è —É—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª—Å—è –Ω–∞ –ø–æ—Å–∏–ª—å–Ω—É—é —Ä–∞–±–æ—Ç—É. –û—Ç–µ—Ü –∏ –ë–∞–±–∞–µ–≤ –ó–∞—Ö–º–µ—Ç —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è–º–∏. –û–¥–∏–Ω —Ä–∞–∑–≤–æ–∑–∏–ª —Å–º–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Ä–∞–±–æ—á–∏—Ö –∑–∞–≤–æ–¥–∞ –õ–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç–∞ –®–º–∏–¥—Ç–∞. –î—Ä—É–≥–æ–π –±—ã–ª –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–º –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–∞. –õ–µ–≤–∞ –ö—Ä—É–≥–ª–∞–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π - –∏–Ω–≤–∞–ª–∏–¥, –¥–æ –æ—Ç—ä–µ–∑–¥–∞ –≤ –ò–∑—Ä–∞–∏–ª—å —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –≤ —Å–∏—Å—Ç–µ–º–µ –∫–æ–æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏–∏, –µ–∑–¥–∏–ª –Ω–∞ –ó–∞–ø–æ—Ä–æ–∂—Ü–µ —Å —Ä—É—á–Ω—ã–º —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ–º. –í–æ–ª–æ–¥—è —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ —É—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª—Å—è –Ω–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç—É –∏–∑-–∑–∞ –ø—Ä–æ–≥—Ä–µ—Å—Å–∏—Ä—É—é—â–µ–≥–æ –Ω–µ—Ä–≤–Ω–æ–≥–æ –∑–∞–±–æ–ª–µ–≤–∞–Ω–∏—è. –ñ–∏–ª–∏ –æ–Ω–∏ –≤–¥–≤–æ–µ–º —Å –º–∞—Ç–µ—Ä—å—é, –Ω–∏–∫–æ–≥–æ –Ω–µ –±–µ—Å–ø–æ–∫–æ—è, –∏–∑—Ä–µ–¥–∫–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ –ø—Ä–æ–≥—É–ª–∫–∏, –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞—è –¥—Ä—É–≥ –¥—Ä—É–≥–∞. –ü–æ—Å–ª–µ —Å–º–µ—Ä—Ç–∏ –µ–≥–æ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏ —Å–æ—Å–µ–¥–∏ –¥–æ–ª–≥–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ –µ–º—É –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –∏ –ø–æ–º–æ—â—å.
–Ý–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–∏ –æ—á–µ–Ω—å —Ä–∞–Ω–æ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç—É, –º—ã —Å —Å–µ—Å—Ç—Ä–æ–π –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–µ–¥–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω—ã —Å–∞–º–∏ —Å–µ–±–µ. –≠—Ç–∞ –±–µ—Å–∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å —Å—ã–≥—Ä–∞–ª–∞ —Å–æ –º–Ω–æ–π –∑–ª—É—é —à—É—Ç–∫—É.
–ó–∏–º–∞ 1949 –≥–æ–¥–∞ –≤—ã–¥–∞–ª–∞—Å—å —Å–Ω–µ–∂–Ω–æ–π, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ –∂–µ, –≤—ã–∑–≤–∞–≤ –≤–æ—Å—Ç–æ—Ä–≥ —É –¥–µ—Ç–µ–π. –ó–∞ –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –æ—Ç —É–ª–∏—Ü—ã –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –¥–æ –ë–∞–∑–∞—Ä–Ω–æ–π (–ì—É—Å–∏ –ì–∞–¥–∂–∏–µ–≤–∞) –±—ã–ª–∏ –Ω–∞–∫–∞—Ç–∞–Ω—ã –ª–µ–¥–æ–≤—ã–µ –¥–æ—Ä–æ–∂–∫–∏, –∫–∞—Ç–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ —Å–∞–Ω–∫–∞—Ö. –ú—ã –±–µ–≥–∞–ª–∏, –∏–≥—Ä–∞–ª–∏ –≤ —Å–Ω–µ–∂–∫–∏, –ø–æ—Ç–µ–ª–∏ –∏ –Ω–∞—à–∞ –æ–¥–µ–∂–¥–∞ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å –º–æ–∫—Ä–æ–π. –Ø –±–µ–∂–∞–ª –¥–æ–º–æ–π, —Å–Ω–∏–º–∞–ª –º–æ–∫—Ä—É—é –æ–¥–µ–∂–¥—É, –≤–µ—à–∞–ª –Ω–∞–¥ –∫–µ—Ä–æ—Å–∏–Ω–∫–æ–π –∏ –∂–¥–∞–ª, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω–∞ –≤—ã—Å–æ—Ö–Ω–µ—Ç. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ –∂–µ, –æ–Ω–∞ –Ω–µ –º–æ–≥–ª–∞ —Ç–∞–∫ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –≤—ã—Å–æ—Ö–Ω—É—Ç—å, –∏ –∫–æ–≥–¥–∞ –æ—Ç –æ–¥–µ–∂–¥—ã —à–µ–ª –≥–æ—Ä—è—á–∏–π –ø–∞—Ä, —è —Å–Ω–æ–≤–∞ –æ–¥–µ–≤–∞–ª –µ–µ –∏ –±–µ–∂–∞–ª –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü—É. –¢–∞–∫ —è –ø—Ä–æ–¥–µ–ª–∞–ª –¥–≤–∞-—Ç—Ä–∏ —Ä–∞–∑–∞. –í–µ—á–µ—Ä–æ–º –ø—Ä–∏—à–ª–∞ –º–∞—Ç—å —Å —Ä–∞–±–æ—Ç—ã –∏ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª–∞, —á—Ç–æ —É –º–µ–Ω—è –∂–∞—Ä. –í —Ç–∞–∫–æ–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ (–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è —É –º–µ–Ω—è –±—ã–ª–æ –¥–≤—É—Ö—Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–Ω–µ–µ –≤–æ—Å–ø–∞–ª–µ–Ω–∏–µ –ª–µ–≥–∫–∏—Ö) —è –ø—Ä–æ–±—ã–ª –±–æ–ª–µ–µ 1,5 –º–µ—Å—è—Ü–µ–≤. –í—Å–µ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —è –±—Ä–µ–¥–∏–ª, –≤ –≥–æ–ª–æ–≤–µ –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–∞–ª–∏ —Ü–≤–µ—Ç–Ω—ã–µ –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∫–∏. –ö–∞–∫ –Ω–∞—è–≤—É —è –≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –∫ –Ω–∞–º –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∞ —Å–µ—Å—Ç—Ä–∞ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏ —Å –º—É–∂–µ–º –∏ —è —É–≤–µ—Ä—è–ª –º–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ —É—à–ª–∏ –≥—É–ª—è—Ç—å, –∞ —á–µ–º–æ–¥–∞–Ω —Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –ø–æ–¥ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç—å—é. –ú–∞—Ç—å, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä—è–ª–∞, —Ç–∞–º —á–µ–º–æ–¥–∞–Ω –∏–ª–∏ –Ω–µ—Ç. –í –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–∏ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏ –∑–∞ –º–Ω–æ–π —É—Ö–∞–∂–∏–≤–∞–ª–∞ —Å–µ—Å—Ç—Ä–∞, –ø–æ–º–æ–≥–∞–µ—Ç —á–µ–º –º–æ–≥–ª–∞. –ù–æ –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã —è –æ—á–Ω—É–ª—Å—è –∏ —É–≤–∏–¥–µ–ª –ø–ª–∞—á—É—â—É—é –º–∞—Ç—å —Ä—è–¥–æ–º —Å –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç—å—é. "–ú–∞–º–∞, –∑–∞—á–µ–º —Ç—ã –ø–ª–∞—á–µ—à—å? –£ –º–µ–Ω—è –±–æ–ª–∏—Ç –≥–æ–ª–æ–≤–∞". –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –º–æ—è –ø–µ—Ä–≤–∞—è –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–∞—è —Ä–µ–∞–∫—Ü–∏—è, –ø–æ—Å–ª–µ —á–µ–≥–æ —è –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –ø–æ—à–µ–ª –Ω–∞ –ø–æ–ø—Ä–∞–≤–∫—É.
–í —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —à–∫–æ–ª—ã –±—ã–ª–∏ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Ö–ª–µ—Ç–∫–∏, —Å–µ–º–∏–ª–µ—Ç–∫–∏, –≤–æ—Å—å–º–∏–ª–µ—Ç–∫–∏, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É —è —á–∞—Å—Ç–æ –º–µ–Ω—è–ª —à–∫–æ–ª—ã –∏ –≤–µ–∑–¥–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–ª—Å—è —Å –Ω–æ–≤—ã–º–∏ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∞–º–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –±—ã–ª–∏ –Ω–µ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–≥–æ –ø–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è.
–í 1953 –≥–æ–¥—É, –≤—Å–µ –∫–ª–∞—Å—Å—ã —à–∫–æ–ª—ã ‚Ññ29, –≥–¥–µ –∫ —Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —è —É—á–∏–ª—Å—è –≤ —Å–µ–¥—å–º–æ–º –∫–ª–∞—Å—Å–µ, –±—ã–ª–∏ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω—ã –≤ –∫–æ—Ä–∏–¥–æ—Ä–µ, –∏ –¥–∏—Ä–µ–∫—Ç–æ—Ä –æ–±—ä—è–≤–∏–ª –æ —Å–º–µ—Ä—Ç–∏ –ò.–í.–°—Ç–∞–ª–∏–Ω–∞, –Ω–∞—à–µ–≥–æ –≤–æ–∂–¥—è –∏ —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã. –£—á–µ–Ω–∏–∫–∏ –º–ª–∞–¥—à–∏—Ö –∫–ª–∞—Å—Å–æ–≤ –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª–∏ —Ç—Ä–∞–≥–∏—á–Ω–æ—Å—Ç–∏ —ç—Ç–æ–≥–æ –æ–±—ä—è–≤–ª–µ–Ω–∏—è, –∞ —É—á–∏—Ç–µ–ª—è –∏ —É—á–µ–Ω–∏–∫–∏ —Å—Ç–∞—Ä—à–∏—Ö –∫–ª–∞—Å—Å–æ–≤ –ø–ª–∞–∫–∞–ª–∏. –®–∫–æ–ª–∞ –±—ã–ª–∞ –Ω–∞ —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–º —Å—á–µ—Ç—É, —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥–∏–º–∞—è –æ–ø—ã—Ç–Ω—ã–º –¥–∏—Ä–µ–∫—Ç–æ—Ä–æ–º –î—Ä—ã–Ω–∫–∏–Ω–æ–π –ö–ª–∞–≤–¥–∏–µ–π –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–Ω–æ–π.
–ú–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–∑–∂–µ, –ø–æ —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã–º –æ–±—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞–º –º–Ω–µ –¥–æ–≤–µ–ª–æ—Å—å –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞—Ç—å—Å—è —Å–æ –º–Ω–æ–≥–∏–º–∏ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–≤–∏–∫–∞–º–∏. –í—Å–µ—Ö –∏—Ö –æ–±—ä–µ–¥–∏–Ω—è–ª–æ –æ–¥–Ω–æ - –Ω–µ—Ç–µ—Ä–ø–∏–º–æ—Å—Ç—å –∫ –Ω–µ—Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–æ—Å—Ç–∏, –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –∫ –æ–∫—Ä—É–∂–∞—é—â–∏–º –∏ –∂–µ–ª–∞–Ω–∏–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –ø–æ—Å–ª–µ —Å–µ–±—è –¥–æ–±—Ä–æ –∏ –ø–∞–º—è—Ç—å. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–∞–∫–∏–º–∏ –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å –≤ –º–æ–µ–π –ø–∞–º—è—Ç–∏ –ò–≤–∞–Ω –¢—Ä–µ—Ç—å—è–∫–æ–≤, –ú–∞–∑–∞–∏—Ä –ê–±–±–∞—Å–æ–≤, –ó–∏—è –ë—É–Ω—å—è–¥–æ–≤, –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ì—Ä–∏—Ç—á–µ–Ω–∫–æ. –í—Å–µ –æ–Ω–∏, –Ω–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ —É–≤–µ—á—å—è –∏ –∫–æ–Ω—Ç—É–∑–∏–∏, –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∏—Å—å –æ–ø—Ç–∏–º–∏—Å—Ç–∞–º–∏ —Å –∑–∞–≤–∏–¥–Ω–æ–π —Ä–∞–±–æ—Ç–æ—Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω–æ—Å—Ç—å—é. –û –∫–∞–∂–¥–æ–º –∏–∑ –Ω–∏—Ö –º–æ–∂–Ω–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –º–Ω–æ–≥–æ –¥–æ–±—Ä–æ–≥–æ –∏ –ø–æ—É—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ. –î–æ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è—à–Ω–µ–≥–æ –¥–Ω—è —Å–∏–ª–∞–º–∏ —ç–Ω—Ç—É–∑–∏–∞—Å—Ç–æ–≤ –ø–æ–∏—Å–∫–æ–≤—ã—Ö –æ—Ç—Ä—è–¥–æ–≤ –ø–æ –∫—Ä—É–ø–∏—Ü–∞–º —Å–æ–±–∏—Ä–∞—é—Ç—Å—è —Å–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è –æ —Ç–µ—Ö, –∫—Ç–æ —É–º–µ—Ä –æ—Ç —Ä–∞–Ω –≤ —ç–≤–∞–∫–æ–≥–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–ª—è—Ö –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –ë–∞–∫—É –∏ –ø–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–µ–Ω –∞–∑–µ—Ä–±–∞–π–¥–∂–∞–Ω—Å–∫–æ–π –∑–µ–º–ª–µ –≤ –º–æ–≥–∏–ª–∞—Ö —Å –Ω–∞–¥–ø–∏—Å—å—é "–Ω–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã–π —Å–æ–ª–¥–∞—Ç" –∏–ª–∏ "—Å–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è –Ω–µ—Ç". –Ý—É—Å—Å–∫–∏–µ –∏ –∞–∑–µ—Ä–±–∞–π–¥–∂–∞–Ω—Ü—ã, –≥—Ä—É–∑–∏–Ω—ã –∏ –ª–µ–∑–≥–∏–Ω—ã, –µ–≤—Ä–µ–∏ –∏ —Ç–∞—Ç–∞—Ä—ã, –º–æ–ª–¥–∞–≤–∞–Ω–µ –∏ –æ—Å–µ—Ç–∏–Ω—ã, –±–µ–ª–æ—Ä—É—Å—ã –∏ —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Ü—ã –∏ –º–Ω–æ–≥–∏–µ –¥—Ä—É–≥–∏–µ –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å –ª–µ–∂–∞—Ç—å –≤ –∞–∑–µ—Ä–±–∞–π–¥–∂–∞–Ω—Å–∫–æ–π –∑–µ–º–ª–µ.
–í–µ–ª–∏–∫–∞—è –ü–æ–±–µ–¥–∞ –¥–∞–ª–∞ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –≤—Å–µ–º –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞–º –≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –∫ –º–∏—Ä–Ω–æ–º—É —Å–æ–∑–∏–¥–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–º—É —Ç—Ä—É–¥—É. –ê–∑–µ—Ä–±–∞–π–¥–∂–∞–Ω –º–æ–∂–µ—Ç –≥–æ—Ä–¥–∏—Ç—å—Å—è —Å–≤–æ–∏–º –≤–∫–ª–∞–¥–æ–º –≤ —Å–ø–∞—Å–µ–Ω–∏–µ –º–∏—Ä–∞. –°–ø–∞—Å–µ–Ω–Ω—ã–µ –Ω–∞—Ä–æ–¥—ã –±—ã–ª–∏ —É–≤–µ—Ä–µ–Ω—ã, —á—Ç–æ —Å —Ñ–∞—à–∏–∑–º–æ–º –ø–æ–∫–æ–Ω—á–µ–Ω–æ –Ω–∞–≤—Å–µ–≥–¥–∞. –Ω–æ –ø—Ä–æ—à–ª–æ –º–µ–Ω–µ–µ 50 –ª–µ—Ç –∏ –ê–∑–µ—Ä–±–∞–π–¥–∂–∞–Ω –≤–Ω–æ–≤—å —Å—Ç–æ–ª–∫–Ω—É–ª—Å—è —Å –Ω–µ—É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –ø–æ—Å—è–≥–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ–º —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –∞–≥—Ä–µ—Å—Å–∏–≤–Ω—ã—Ö —Å–æ—Å–µ–¥–µ–π –Ω–∞ –∏—Å–∫–æ–Ω–Ω—ã–µ –∞–∑–µ—Ä–±–∞–π–¥–∂–∞–Ω—Å–∫–∏–µ –∑–µ–º–ª–∏. –ü–æ —Å—É—Ç–∏ –¥–µ–ª–∞, –∞–∑–µ—Ä–±–∞–π–¥–∂–∞–Ω—Å–∫–æ–º—É –Ω–∞—Ä–æ–¥—É –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –µ—â–µ —Ä–∞–∑ —Å—Ç–æ–ª–∫–Ω—É—Ç—å—Å—è —Å —Ñ–∞—à–∏–∑–º–æ–º, —Å —Å–∞–º—ã–º —á—É–¥–æ–≤–∏—â–Ω—ã–º –µ–≥–æ –ø—Ä–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏–µ–º. –í–µ—Å—å –º–∏—Ä –æ–±–æ—à–ª–∞ —Ç—Ä–∞–≥–µ–¥–∏—è –∞–∑–µ—Ä–±–∞–π–¥–∂–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –•–æ–¥–∂–∞–ª—ã, –≥–¥–µ –ø–æ–≥–∏–±–ª–æ —Å–≤—ã—à–µ 600 —Å—Ç–∞—Ä–∏–∫–æ–≤, –∂–µ–Ω—â–∏–Ω, –¥–µ—Ç–µ–π.
–ê—Ä–º—è–Ω—Å–∫–∏–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –≤ –•–æ–¥–∂–∞–ª–∞—Ö –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏ –≤—Å—é —Å–≤–æ—é –∑–≤–µ—Ä–∏–Ω—É—é —Å—É—â–Ω–æ—Å—Ç—å, —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–∞—è –∞–∑–µ—Ä–±–∞–π–¥–∂–∞–Ω—Å–∫–æ–µ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ. –ò –≤–Ω–æ–≤—å, –∫–∞–∫ –≤ –í–µ–ª–∏–∫—É—é –û—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—É—é, –∞–∑–µ—Ä–±–∞–π–¥–∂–∞–Ω—Å–∫–æ–º—É —Å–æ–ª–¥–∞—Ç—É –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –≤–∑—è—Ç—å—Å—è –∑–∞ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –∏ –æ—Ç—Å—Ç–∞–∏–≤–∞—Ç—å –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç—å –∏ —Å—É–≤–µ—Ä–µ–Ω–∏—Ç–µ—Ç —Å–≤–æ–µ–π —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã, –¥–æ–∫–∞–∑–∞–≤, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ –¥–æ—Å—Ç–æ–π–Ω—ã –≥–µ—Ä–æ–π—Å—Ç–≤–∞ —Å–≤–æ–∏—Ö –¥–µ–¥–æ–≤, –æ—Ç—Ü–æ–≤, —Å—Ç–∞—Ä—à–∏—Ö –±—Ä–∞—Ç—å–µ–≤. –°–ª–∞–≤–∞ –∏ –≤–µ—á–Ω–∞—è –∏–º –ø–∞–º—è—Ç—å!¬Ý
–í–æ—Ä–æ–Ω–∏–Ω –ë–æ—Ä–∏—Å –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤–∏—á
–ü—Ä–æ–µ–∫—Ç –æ—Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –ø—Ä–∏ –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∫–µ –§–æ–Ω–¥–∞ ‚Äú–Ý—É—Å—Å–∫–∏–π –ú–∏—Ä‚Äù

–î—Ä—É–≥–∏–µ –Ω–æ–≤–æ—Å—Ç–∏

–£—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–µ–Ω—ã –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –∏ —Å—Ç—Ä—É–∫—Ç—É—Ä–∞ –ú–ò–î –ê–∑–µ—Ä–±–∞–π–¥–∂–∞–Ω–∞

–°–ª–∞–≤–∞ –ø–æ–±–µ–¥–∏—Ç–µ–ª—è–º! –í–µ—á–Ω–∞—è –ø–∞–º—è—Ç—å –≥–µ—Ä–æ—è–º!¬Ý¬Ý

–°–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∞—Å—å –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞ –ø—Ä–µ–º—å–µ—Ä-–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–æ–≤ –ê–∑–µ—Ä–±–∞–π–¥–∂–∞–Ω–∞ –∏ –ë–µ–ª–∞—Ä—É—Å–∏ –≤ —Ä–∞—Å—à–∏—Ä–µ–Ω–Ω–æ–º —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–µ -–û–ë–ù–û–í–õ–ï–ù–û

–°–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∞—Å—å –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞ –æ–¥–∏–Ω –Ω–∞ –æ–¥–∏–Ω –ø—Ä–µ–º—å–µ—Ä-–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–æ–≤ –ê–∑–µ—Ä–±–∞–π–¥–∂–∞–Ω–∞ –∏ –ë–µ–ª–∞—Ä—É—Å–∏-–û–ë–ù–û–í–õ–ï–ù–û

–ü–æ–¥–ø–∏—Å–∞–Ω—ã –∞–∑–µ—Ä–±–∞–π–¥–∂–∞–Ω–æ-–±–µ–ª–æ—Ä—É—Å—Å–∫–∏–µ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç—ã

–í –ï–≥–∏–ø—Ç–µ –ø–æ—á—Ç–∏–ª–∏ –ø–∞–º—è—Ç—å –ì–µ–π–¥–∞—Ä–∞ –ê–ª–∏–µ–≤–∞ –≤ 102-—é –≥–æ–¥–æ–≤—â–∏–Ω—É —Å–æ –¥–Ω—è —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è
–õ–µ–Ω—Ç–∞ –Ω–æ–≤–æ—Å—Ç–µ–π
–í—Å–µ –Ω–æ–≤–æ—Å—Ç–∏–°–∞–º—ã–π —á–∏—Ç–∞–µ–º—ã–π

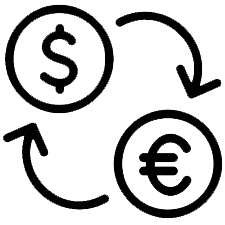

 –ß–∏—Ç–∞–π—Ç–µ –Ω–∞—Å –≤ Telegram. –°–∞–º—ã–µ –≤–∞–∂–Ω—ã–µ –Ω–æ–≤–æ—Å—Ç–∏ –ê–∑–µ—Ä–±–∞–π–¥–∂–∞–Ω–∞ –∏ –º–∏—Ä–∞
–ß–∏—Ç–∞–π—Ç–µ –Ω–∞—Å –≤ Telegram. –°–∞–º—ã–µ –≤–∞–∂–Ω—ã–µ –Ω–æ–≤–æ—Å—Ç–∏ –ê–∑–µ—Ä–±–∞–π–¥–∂–∞–Ω–∞ –∏ –º–∏—Ä–∞
 –ó–∞–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–π—Ç–µ –∏ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤—å—Ç–µ —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è, —Å–≤–∏–¥–µ—Ç–µ–ª—è–º–∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –≤—ã –±—ã–ª–∏
–ó–∞–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–π—Ç–µ –∏ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤—å—Ç–µ —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è, —Å–≤–∏–¥–µ—Ç–µ–ª—è–º–∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –≤—ã –±—ã–ª–∏